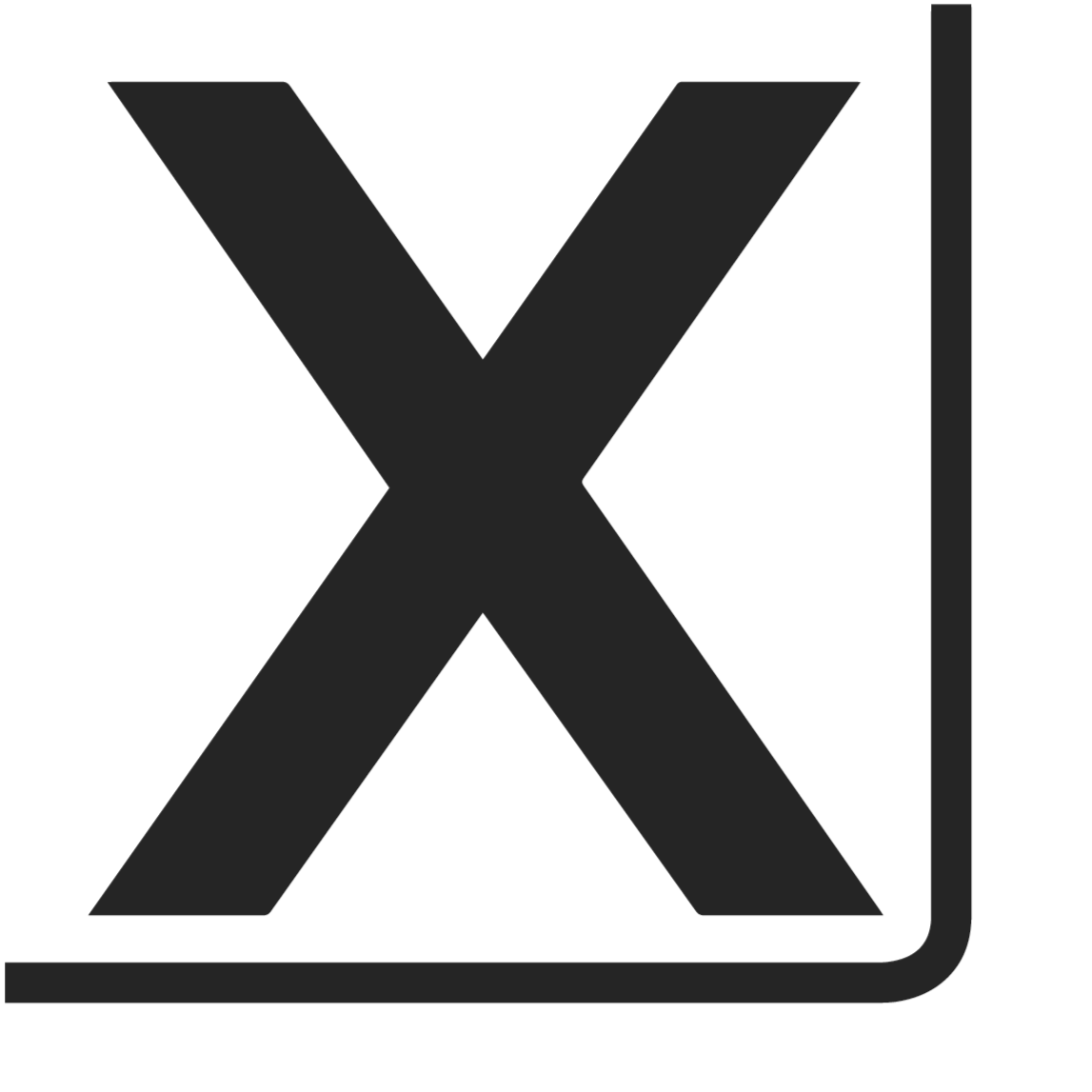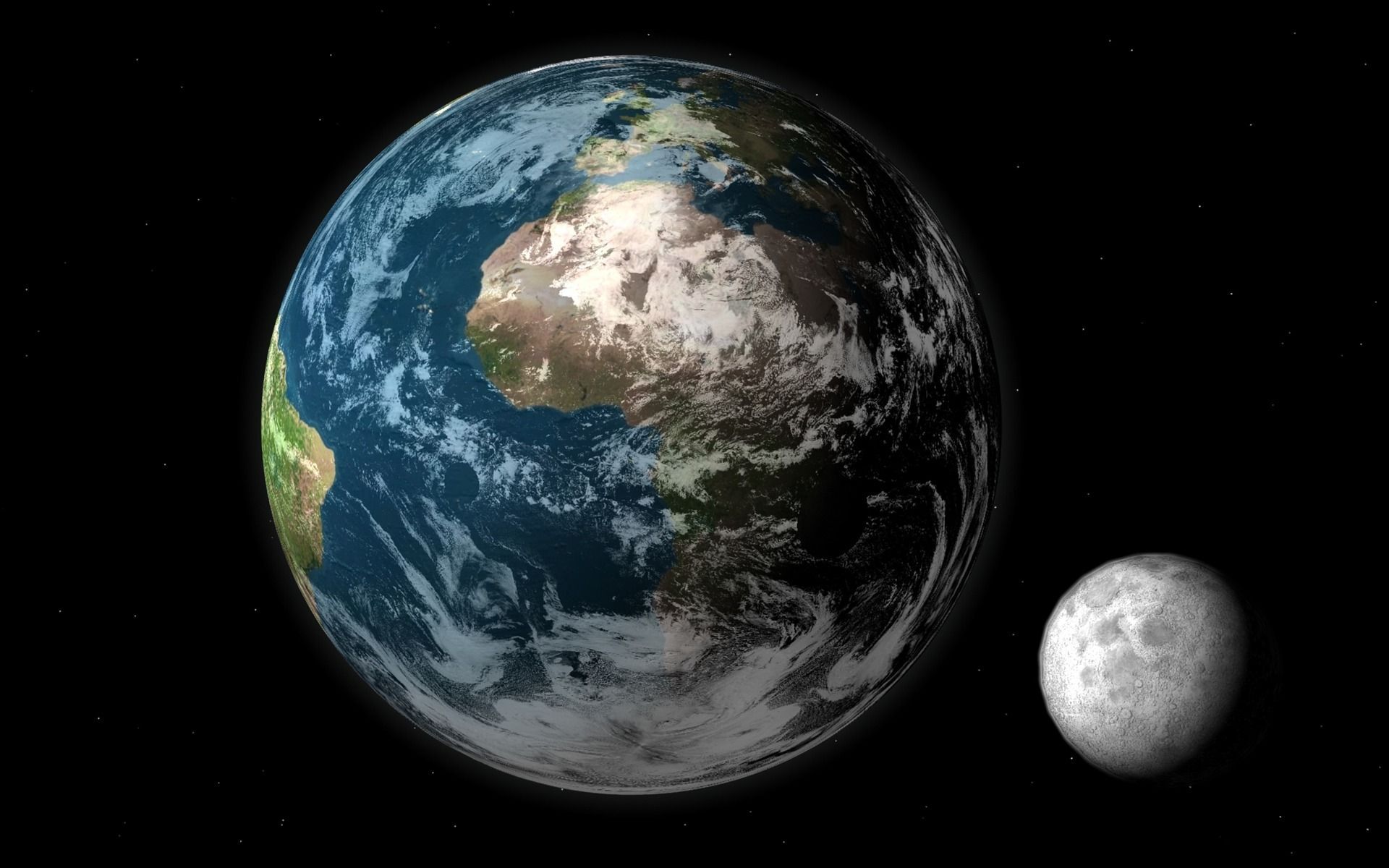Цель притчей
В чем заключается подлинная цель притчей и почему Господь так часто пользовался ими?
При описании мудрости царя Соломона библейский стих отмечает: «Он был мудрее всех людей… И изрек он три тысячи притчей» (3 Цар. 4:30, 32).
Может показаться, что здесь говорится о богатом воображении Соломона, а вовсе не о его мудрости. Но любая притча — это, прежде всего, метафора, а это значит, она гораздо больше, чем занимательный образ передачи идеи. Это перевод сложной системы взглядов на более низкий интеллектуальный уровень беседы.
Величие мудрости Соломона заключалось в том, что он мог самые глубокие и возвышенные мысли донести до гораздо менее развитых (в три тысячи раз менее развитых) людей, чем он сам. Тот, кто его слушал, получал возможность шаг за шагом проследить за тем, что говорится, и, в конце концов, вернуться к тому, чему, собственно, и посвящена беседа.
Мудрость собеседника всегда заключается в том, что он может опуститься на уровень, понятный другому, как бы низок этот уровень для него не был. Великий ученый, общаясь со своим двухлетним внуком, лопочет на его языке; ребенок, пытаясь привлечь внимание котенка, мурлычет, подражая ему. И великий ученый, и ребенок заняты одним и тем же — они ищут единства.
Хороший учитель знает, что он одновременно является и источником информации и посредником ее передачи. Метафора учителя — это инструмент, позволяющий перевести абстрактную мысль в форму, понятную ученику. Цель учителя — приспособляясь к уровню ученика, вводить его в сущность идеи, ясной пока только учителю.
Христос говорит о Себе, что Он больше Соломона (Мф. 12:32), ибо Он без притчи не учил никогда (Мк. 4:34) и Его лестница из метафор была более великой, ведь она строилась для соединения неба с землей, «…чтобы изречь сокровенное от создания мира» (Мф. 13:35).
Мы испытываем трудности, описывая даже хорошо знакомые явления, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, не говоря уже о религиозном феномене. Любовь, ненависть, зависть, сны, мечты — все это нематериально. С чем человек может сравнить свою любовь? С горой? С водопадом? С миллионом алых роз? Пережить любовь можно, но как ее описать? Слова неадекватны. Тем более нелегко описать иную реальность — тот, кто берется за это, пользуется словами, взятыми из нашего вещественного мира. Например, описание рая с крыльями, лютнями и кущами, или ада с рогами, вилами и котлами.
Не надо быть большим рационалистом, чтобы понять всю условность этих картин. Слова оказываются бессильными передать опыт, который не воспринимается отсутствующим органом чувств.
Один из крупнейших мыслителей средневековой Испании, Маймонид, классифицировал тех, кто читает Библию, следующим образом: есть люди, которые читают повествования Библии как сказки и верят им; есть люди, которые читают повествования Библии как сказки — и поэтому не верят им; и наконец, существует категория людей, которые умеют прочесть глубокий внутренний смысл, заложенный в повествовании Библии, и при этом абстрагироваться от формы изложения.
Иисус, беседуя с Никодимом, лишь немного приоткрывает Небесную завесу, и Никодим не понимает Его. «...Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» — с горечью говорит Господь. — «Если Я сказал Вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Ин. 3:10, 12).
Поэтому Спаситель, беседуя с народом, часто начинает с раздумья: «Чему уподобим Царствие Божие? Или, какою притчею изобразим его?» (Мк 4:30). Он подбирает подходящий образ, который лучше других отослал бы к сокровенному, составляющему подлинную цель притчи.
Источник: журнал "Христианство"